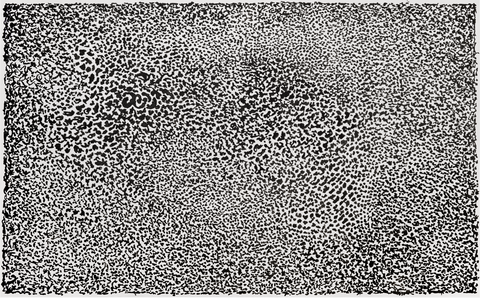Владимир Мартынов. Автоархеология. Пространство автоархеологии. Дмитрий Пошвин.
ЦСИ Винзавод, подъезд н8
22.10 — 12.12.2024
22 октября галерея современного искусства a—s—t—r—a открывает выставку Владимира Мартынова, композитора, философа, художника, автора одной из главных музыкальных композиций шедевра Паоло Соррентино «Великая красота» и художника Дмитрия Пошвина.
В рамках выставки запланированы следующие мероприятия:
- 6 ноября — закрытая презентация книги Владимира Мартынова "Апология Эпиметея" в галерее a—s—t—r—a. Вход по предварительной регистрации.
- 18 ноября состоится сольный концерт Владимира Мартынова в Цехе Белого на Винзаводе. Приобрести билеты можно по ссылке.

Владимир Иванович Мартынов окончил Московскую консерваторию по классу композиции и классу фортепиано. С 1973 по 1980 год был участником Московской экспериментальной студии электронной музыки. Занимался изучением музыки Средних веков и Возрождения. Выступал на различных фестивалях, исполняя средневековую, авангардную, электронную и минималистскую музыку. В 1999 году совместно с Татьяной Гринденко создал инструментальный ансамбль Opus Posth. В его основу положена композиторская и философская концепция Владимира Мартынова, определяющая как название ансамбля (opus posthumum – посмертная публикация музыкального произведения), так и современное состояние культуры. Осуществлял совместные проекты с Львом Рубинштейном, Дмитрием Приговым, Леонидом Фёдоровым (“АукцЫон”). Преподавал в Московской духовной академии историю богослужебного пения, вел курс музыкальной антропологии на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Является автором многочисленных философских и музыковедческих текстов.
Выставка "Владимир Мартынов. Автоархеология. Пространство автоархеологии. Дмитрий Пошвин." соединяет философские, музыкальные и визуальные интуиции, которые Владимир Мартынов развивает на протяжении многих лет. Впервые серьезно термин “онтография” ввел американский философ Ян Богост, определив его как “эстетическую теорию множеств”. Онтография воспевает любую конфигурацию предметов, явлений, фактов вне зависимости от её смысла, принимая её такой, какая она есть.
В прочтении Мартынова онтограмма становится артобъектом, который являет собой лишенное человеческих иерархий и классификаций чистое перечисление, принципиально отказывающееся от внесения смысла в живую ткань жизни. Здесь смысл опознан как насилие над реальностью. Более того, принимая правила художника, мы сами становимся частью этого процесса аннигиляции смыслов.
В отличие от пространства автобиографии, где акцент делается на индивидуальном “я”, пространство автоархеология позволяет вписать своё “я” в окружающую действительность. Здесь личное становится частью общего, человек воспринимается как сумма фактов, его окружающих. Происходит смыкание: автоархеология как метод находит своё практическое применение в онтографии.
Онтография и автоархеология объединяют любые факты и явления, попавшие в поле зрения определенного человека: “бабушки, чайники, палеолитические ладони или ребенок, смотрящий в окно”. По мнению Мартынова, чем меньше мы сегодня пытаемся навязывать смысл увиденному и услышанному, тем больше у нас шансов проникнуть в тайну жизни.
Пространство галереи станет местом превращения смотрящего в рассматриваемого, местом, где человек не властен над объектами, а любовь к жизни важнее её смысла.
Выставка даёт нам шанс
вернуться к состоянию пребывания в реальности,
стать равноправным соучастником всему существующему,
перестать быть тем, кем мы пытались быть только что.
Вера Полякова, научный сотрудник галереи a—s—t—r—a
ТЕКСТ К ВЫСТАВКЕ
"Очная ставка с Пространством".
Автор Сергей Хачатуров
Знаменитый мастер эпохи романтизма, создатель картины «Явление Христа народу» Александр Иванов как-то обмолвился созерцая средневековые фрески: «живопись превосходна до безымянности художника». Романтизм, как известно, подарил две стратегии общения личности с миром. Одна из них крайне волюнтаристская: художник – демиург, богоподобен, ставит себя на пьедестал, кормит свое эго и манипулирует реальностью. Другая стратегия: смирить себя до чистого созерцания щедрот мироздания, быть прозрачным сосудом, сквозь который лучится свет божественной благодати. К первому типу романтических эгоцентриков относился Карл Брюллов. Ко второму типу идеального созерцателя и чуткого «внимателя», -- Александр Иванов.
Владимир Мартынов в своем изобразительном творчестве интерпретирует эту «внимательную» идею в контексте постмодернистской и метамодернистской реальности. Опыт создания новой выставки – тому подтверждение. Проект начинается с изготовления соавтором Мартынова художником Дмитрием Пошвиным красивого, почти бесплотного макета пространства галереи, в которой разместится выставка. Картонная белая модель становится слепком архитектуры. Сама галерея (a—s—t—r—a) обретает невиданный статус, едва ли не сакральный по своей сути. Она становится похожа на модернистские часовни Ле Корбюзье или Марка Ротко. Внутри этого белого пространства в четкой ритмической организации живут холсты и коллажи Владимира Мартынова. Коллажи он называет онтограммами. Главная идея выставки в том, чтобы пробудить Пространство, заставить его дышать и глядеть на нас. Посетитель оказывается на очной ставке с ним. Пространство разглядывает его, как экспонат. Всяческие аллюзии на шедевральность, манипулятивные заигрывания с собственным эго, навязывание зрителю своей гениальности исключаются сразу же. Не модернистский текст, а постмодернисткий контекст имеется в виду. Мартынов и Пошвин желают вписаться в пространство, а не подчинить его себе. Такой метод называется «автоархеология». В отличие от автобиографии он подразумевает смирение и доверие к миру во всех его неуловимых и забытых деталях.
У этой стратегии есть исторические предпосылки. Главным героем Пространство рассматривалось у авангардистов школы ВХУТЕМАС 1920-х. Имею в виду мастерскую так называемых рационалистов, объединение АСНОВА Николая Ладовского. Ладовский принимал Пространство первостепенной идеей архитектуры. Все остальные сюжеты, от формальных качеств, материала до практического назначения считал второстепенными. Выявить архитектонические качества пространства (динамику, пропорции, масштабы, светлоту и прозрачность) было для Ладовского залогом гармонического общения человека с домом.
В выставочной деятельности Пространство и культура экспонирования станут самоценной идеей художественного высказывания у английской «Независимой группы» первой половины 1950-х. «Независимая группа» была исследовательским коллективом, включавшим поп-артистов художников (Ричард Гамильтон), теоретиков (Рейнер Бэнем) и практиков (Элисон и Питер Смитсоны) архитектуры необрутализма. Так, на выставке «Параллели жизни и искусства» 1953 года роль самих художников умалилась до роли режиссеров пространственных связей в гигантском коллаже из всяческих рандомных образов. Репродукции произведений первобытного искусства соседствовали с фрагментами картин модернистов (Кандинского, Пикассо, Дюбюффе). Детские рисунки и иероглифы, антропологические, естественнонаучные фотографии создавали ситуацию, в которой зритель вынужден был выстраивать свою сложную навигацию. Он сам становился экспонатом, за которым наблюдает жизнь во всех ее проявлениях, превосходящих амбициозные претензии конкретного художника.
Владимир Мартынов и Дмитрий Пошвин также инсталлируют в белое пространство коллажи-онтограммы и холсты с фантастически красивой вязью линий и окружностей, которые собираются в автоматическое письмо и отсылают к архетипам граффити эпохи палеолита («палеолитическим макаронам»). Коллажи – онтограммы микшируют различные образы, не вписанные в некие содержательные ряды. Эти образы лишены насилия смысла и соотносятся с модульным искусством американских минималистов уровня Сола Левитта и Дональда Джадда, а также с предметными рядами экспозиций анархического международного объединения 1950 – 1960-х Fluxus.
Мартынов – Композитор. Музыкальный ритм объединяет картины, коллажи. Создается уникальный пространственно-временной континуум, в котором зритель может раствориться в потоках различных пластических, световых вибраций. Параллельные идеи воплощал американский композитор-минималист Элвин Люсьер. Он сидел в комнате. Говорил. Записывал эхо голоса, резонирующего в комнате. Запись звучала много раз. И постепенно голос выветривался. Эффект реверберации усиливался. Оставалась лишь аудиотекстура пространства.
Архаическая культура доверия линии, горизонту, умение аскетическими средствами вписать себя в ток жизни вдохновляла, вдохновляет композиторов минималистов Стива Райха, Филипа Гласса, самого Владимира Мартынова. Сегодня это бережное обращение к архетипам не воспринимается постмодернистским пастишем и игрой в цитаты. Новейшее время, метапозиция наблюдателя предполагает поиск смысла даже в зиянии пустоты. Реальность не подконтрольна человеческим амбициям, разуму и эго. Она автономна и смотрит на нас. И в очной ставке с ней, лишенной аффектации привнесенных эмоций, мы обретаем свет и мудрость.
ТЕКСТ К ВЫСТАВКЕ
Осязая апокалипсис
(Владимир Мартынов как агент неизвестного времени)
Автор Олег Аронсон
Мы привыкли к тому, что Владимир Иванович Мартынов, композитор, провозгласивший и восславивший конец времени композиторов, блестящий музыкант, исполняющий собственные сочинения соло, вместе с Татьяной Гринденко, c ансамблем Opus Posth, с современными музыкантами, академическими и не только, - не просто композитор и музыкант. Он вторгается в разные сопредельные сферы, где свои размышления о судьбе музыки вплетает в воспоминания, в философские размышления о современном искусстве и в богословские толкования текущего момента, выпускает одну книгу за другой, создавая своеобразный частный интеллектуальный архив переломной эпохи. Сам он называет эту практику автоархеологией, которую противопоставляет автобиографии, очерчивающей обычно лишь экспансию авторского «я». Автоархеология Мартынова же – своеобразная попытка нивелировать «я», рассмотреть его как комплекс ключевых аффектов времени, как локальное пространство глобальной трансформации мира.
Эта деятельность Мартынова, параллельная его музыкальным экспериментам и во многом резонирующая с ними, требует особого внимания, поскольку, если мы по привычке будем усматривать в ней биографическую доминанту (а это очень легко, естественно и приятно делать), то упустим важную деталь, а именно – интенсивность намерения, стремление к соприкосновению с опытом, не данным отдельному человеческому существу. Задача, которую решает Мартынов, амбициозна и изысканно сложна. Она в том, чтобы невозможный человеческий опыт (опыт нечеловеческого) проявить в частной практике жизни, где детство, воспитание, культура, искусство, знание и даже вера – лишь отдельные способы существования и самоопределения человека, каждый из которых отделяет его от мира, а не включает в него. Перед нами один из важнейших вопросов современной философии (как возможен бессубъектный опыт, опыт имманентности жизни?), который Мартынов решает практически, создавая своего рода коллайдер из разных доступных ему практик. До недавнего времени в нем сталкивались музыка, философия, религия, литература, а в последнее время к ним прибавилась еще и выставочная активность. От звука и слова Владимир Иванович постепенно мигрирует в сферу пластических образов, где графические и живописные характеристики растворяются в иконосфере современных медиа.
Если мы задаёмся стандартным вопросом «что заставляет композитора писать книги, картины, вторгаться в пространство галереи?», то уже подразумеваем в композиторе автора, в том числе и автора всего остального, что освящено опытом его композиторской славы. Но задача Мартынова иная. Рискну предположить, что его намерение как раз в том, чтобы через иные практики, интеллектуальные и художественные (а точнее – «квазиинтеллектуальные» и «квазихудожественные», поскольку все привычные слова зачумлены непререкаемой ценностью искусства), понять, что же он делает как композитор во времени, когда композитором быть не пристало.
Быть композитором в композиторскую эпоху – быть творцом и имитировать Творца, взывать к поклонению или хотя бы к пристойному гонорару. Быть же композитором в некомпозиторскую эпоху, значит, либо не замечать происходящих в мире перемен, либо пытаться уловить в самом композиторстве некую иную сторону, нежели власть над нотами и публикой.
Сколько раз приходилось слышать ироничный упрек в адрес Мартынова, что, мол, диагностировав конец времени композиторов, он сам продолжает эту практику, сочиняя произведения, подписывая партитуры своим именем, не отказываясь от авторства. Наивность подобных высказываний – лучшая их сторона, другая сторона – страх… страх столкновения с пределом неких сложившихся представлений о мире, воплощенных в ценностях господствующей культуры, такой знакомый страх перемен.
Именно перемены интересуют Мартынова прежде всего. Для него перемены не просто изменения, но изменения столь радикальные, что их невозможно соотносить со временем человеческой жизни. Они принадлежат другому времени, которое даже не историческое (все еще схватываемое человеческой способностью познания), а, скорее, геоисторическое, то есть время процессов, людьми и живыми существами не замечаемых. Время «слишком большой длительности» (la très longue durée), называет это Фернан Броделя, отыскивая его крупицы в просто «большой длительности» общественно-исторических формаций, парадигм и эпистем.
Дело в конце концов не в том, что композитор пишет музыку, декларируя обреченность самой этой затеи. Дело в том, что сама практика композиторства – частный случай фундаментального отделения себя от мира. Другие варианты такого противопоставления – картина, сцена, выставочное пространство (если мы говорим о практиках искусства). В более общем виде можно, вслед за Хайдеггером, говорить о превращении подручной реальности, когда вещи не отделены от практики существования, в нейтральные объекты, пригодные для незаинтересованного взгляда, познания и созерцания. На что немецкий философ обращает внимание в 15 параграфе «Бытия и времени», где как раз и появляется это важное слово - die Zuhandenheit, подручность, то в вещах, что нам кажется вспомогательным средством, но таковым не является, то, что составляет область первичной включенности в мир, непосредственный контакт с ним.
Так, издалека, мы приходим к вопросу: возможно ли не сочинять музыку, а извлекать ее из мира, подобно тому как это делают диджеи в отношении уже имеющегося архива звукозаписей? И развивая эту тему: возможны ли искусство и наука не как практики представления (воображения и знания), не как режимы существования истины (аффективной или рациональной), а как опыт обнаружения в вещах нечеловекомерных стихий? Простой ответ на последний вопрос – конечно нет, поскольку именно это – возможность удваивать мир миметически, создавая его копию в виде художественной или научной «реальности» - позволяет отличать искусство и науку от магии. Но что если мы недооцениваем магическую составляющую нашего сегодняшнего существования? Что если действие композиторства не только в авторстве музыки, но и в создании поля соприкосновения с шумом, страх перед которым заложен не только в его понимании физическом и информационном, но даже поселился в энциклопедических статьях.
Говоря «магия» или «шум» хочется быть предельно конкретным, поскольку совсем близко располагается банальность метафорического прочтения. Словосочетания «магия искусства» или «информационный шум» уже готовы прийти на ум, заменяя собой восторг и раздражение. При этом конкретность и прямота зачастую связывают магию исключительно с целителями-шарлатанами или лжепророками, а шум с утомляющими хаотичными звуками повседневности или свистом в ушах у гипертоника… Шум в своей данности предполагает его устранение. Именно поэтому подавляющее число слушателей «Белого альбома», даже отъявленные битломаны, пропускают композицию «Революция 9».
Но возможна и иная конкретность: рассматривать магию и шум как фрагменты нечеловеческого опыта восприимчивости к полноте мира, как моменты причастности к слишком большой длительности.
Именно так, предельно конкретно, а не метафорически и даже не аллегорически, пытается Мартынов мыслить апокалипсис. Для него это не риторическое причитание и не провидение, а способ отношения к вещам.
Перестать видеть в вещах «нужность» для себя или человечества – вариант апокалиптического видения. Делать вещи ненужные (композиции музыкальные, литературные и выставочные) – прерогатива апокалиптического видения. Не стоит здесь даже пытаться соотнести ненужность с кантовской «целесообразностью без представления о цели» (так немецкий философ определяет прекрасное), поскольку в случае Мартынова любая устойчивая форма – обман, способ не замечать свое нахождение в апокалиптическом потоке, а кантовская «целесообразность» есть именно форма придания аффективному измерению (каковому принадлежат чувства прекрасного и возвышенного) познавательный характер.
В своих произведениях (и музыкальных, и мемуарных, и пластических) Мартынов пытается создать монаду апокалиптического времени, времени, которое не приходит, а длится. Для него апокалипсис – не момент, а поток трансформаций внутри самого времени. Этот своеобразный «шум времени», зафиксирован им в образах своей «Книги перемен», где набор китайских гексаграмм, позволяющих осуществлять ситуативные магические (монтажные) манипуляции, он пытается заменить текстами и изображениями, доступными нам, отлученным от китайской мудрости. Каждый из этих образов бессмысленен, но их ритмы и сочетания создают – нет, не смысл – всего лишь резонанс, некий избыточный шум, пластическое оформление апокалипсиса.
Найти возможность быть имманентным этому шуму непросто. Мешает всё – традиции, музыкальное воспитание, образование, способности, пристрастия, друзья и коллеги, собственные прозрения и даже вера. Спасает то, о чём хочется думать в последнюю очередь, что заклеймлено и презираемо – графомания. Страсть письма. Любого. Музыкального, литературного, графического. Это то, что сам Мартынов отмечает в себе как манию, когда невозможно не писать. В сообщники он берет Гёте, цитируя его высказывание о том, что рисование для него сродни зависимости курильщика. Можно также вспомнить и Эйзенштейна, с его неуёмной страстью к рисунку, настоящей завороженностью движением лини, и Дмитрия Александровича Пригова, друга и постоянного собеседника Владимира Ивановича, ставшего своего рода perpetuum mobile по производству стихов и рисунков. Мартынов пытается максимально расширить значение такого рода зависимостей. Для него практика нотного письма, написание текста и рисунок на бумаге имеют общую природу. И эта мания письма проявляется не только как графо-мания, но и как вскрытие подручности звука, слова, изображения. Важно здесь и то, что ноты на бумаге сопрягаются с касанием клавиш, слова с авторучкой или клавиатурой пишущей машинки, а образы – со способностью руки провести линию, оставить отпечаток.
Обычно графоманию рассматривают как девиацию, неспособность к требованиям завершенности формы, к созданию произведения в определенных институциональных рамках, то есть произведения как объекта потребления. В мании письма господствует иной тип экономики, противостоящей политэкономии литературы или искусства.
Но что она предлагает в виде собственной экономики, не вписывающейся в ту, внутри которой литература и искусство сложились как социальные институты?
Того, кто пишет нескончаемый текст-поток, обычно определяют как «плохого» автора, производящего текст не имеющий адресата. Действительно, кто адресат графоманского письма? Имеет ли оно вообще адресата? Есть ли у него читатель, и если есть, то каков он? Наделив такое письмо адресатом в виде обычного читателя (что с психологической точки зрения вполне естественно), мы, таким образом, помещаем графоманию в сферу политэкономии литературы, где она функционирует чисто негативно. Предмет литературы – это, так или иначе, функционирование произведения в культуре плюс форма произведения с его приемами, литературной стилистикой и т.п. Предмет графомании – это собственно письмо. Письмо и как запись, и как процесс, как акт, в котором произведение (литературы и не только) еще не обрело свою форму. Такое письмо всегда вытесняется, а форма произведения всегда пытается нивелировать следы письма, в которых сохраняется бесформенность и беззащитность графомании.
И здесь мало, даже признав в себе эту манию, превратить свою якобы слабую сторону в сильную. Другое дело – обнаружить иной тип экономики, ориентированной не на нехватку (товаров, произведений, шедевров), а на чистый избыток. Органическая мания письма придает любому тексту (нотному или словесному) и изображению нечто лишнее, ненужное и бессмысленное. Именно это раздражает человека культуры, ориентированного на смысл. Он еще готов принять бессмыслицу в качестве экзистенциального абсурда, но с трудом принимает ее жизненную необходимость. Потому с такой очевидностью радость абсурда обэриутов противостоит гнетущему абсурдизму Кафки (с его вечной нехваткой Закона).
Но еще более важно, что само письмо (запись) – не только техника производства и сохранения информации, но также осязательная модель коммуникации с миром, своего рода импринтинг, когда периферийные ощущения формирует тебя не в меньшей степени, нежели картезианское ощупывание вещей глазом. Так «видение вскользь» (вспомним книгу Мартынова «Пёстрые прутья Иакова») становится тактильным отпечатком мира, прямым (магическим) контактом с ним, а не способ удвоения мира через накарябанные на бумаге или холсте знаки. В мании письма мы оказываемся имманентны миру, а не отделены от него, а само письмо невольно отсылает к первым следам, оставленным в пещерах эпохи палеолита.
Не случайно на обложку своей «Книги перемен» Мартынов выносит отпечаток ладони из пещеры Шове. В этом отпечатке, как и в других древних наскальных изображениях, историки усматривают исток искусства, открытие способности человеком удваивать мир образами. Но возможно в этом отпечатке завораживает сама его «данность». Точнее, в том, что в этих изображениях воспринимается нами как «наличное» и «обыденное» всегда присутствует дополнительный отголосок дара. Это с особенной ясностью выражено в феноменологии Жан-Люка Марьона, для которого «данность» (donné) и есть «дар» (le don), насыщающий вещи неким избытком, в котором таится возможность веры.
Когда Вернер Херцог снимал в пещере Шове свой фильм («Пещера забытых снов»), то использованная им технология 3D позволила преодолеть плоский характер этих рисунков, тем самым переведя их из созерцательного мира зрителя в область максимальной близости, почти тактильной, где они перестают выполнять роль изображений, а впитывают в себя динамику неизвестной дальней жизни. Но если Херцог обнаруживает в наскальных рисунках протокинематографические элементы, акцентируя (благодаря 3D) различие между плоским пространством представления и объемным характером жизни, то для Мартынова важен сам акт касания, бессмысленного отпечатка, еще не ставшего изображением. Для него любая линия несет в себе опыт этого касания, любая графема отсылает к магической сопричастности с миром. Многие исследователи полагают, что именно как преодоление этой магической связи появляется религиозный запрет на изображение в монотеизме, а с ослаблением этой связь и ее утратой, мы оказываемся поглощенными пространством изображений, порождая воображение, идеи и концепции. Андре Леруа-Гуран даже приходит к выводу, что именно в наскальных рисунках впервые проявляется как вид homo sapiens, моторные функции организма которого постепенно теряются и отделяются от интеллекта. В этом состоит первый шаг будущего разделения теории и практики, а также господство подражательных имитационных практик (политики, науки, искусства). Схожи и размышления Мартынова. Он видит в линии, проведенной когтем медведя по неровной скале пещеры более тридцати тысяч лет назад, акт прерывания дочеловеческой истории и вхождение человека в ту историю, которую мы опознаем как историю человечества. Но также, будучи причастен к искусству ХХ века, он уподобляет этому жесту и знаменитый квадрате Малевича, и писсуар Дюшана, и 4’33’’ Кейджа, работы, каждая из которых по-своему прерывает историю искусства, преодолевая соответственно пространства живописи, экспозиции, звуковой композиции, оставляя зрителя наедине с самим собой, в неуютном одиночестве и растерянности. Всё это – частные случаи общего прерывания истории, глобальной трансформации мира, которая происходит на наших глазах, а точнее ощущается нами через разрозненные знаки утраты привычных и ценимых вещей, что читаются как знаки энтропии, или – апокалипсиса, поглотившего в том числе и второй закон термодинамики… Однако наряду с меланхолией утраты в этих знаках открывается совершенно иная сопричастность с миром, с которой не может смириться разум, для которого это не более чем бессмыслица, то есть игра или провокация.
Но бессмыслица может восприниматься и как тот самый избыток жизни, своеобразный «дар мира», провоцирующий особую экономику – экономику избытка (изобилия и щедрости), противостоящую экономике обмена и идее собственности. Отдавать (дарить, любить) и быть в согласии с тем, что дано, то есть даровано миром, - в этом неумолимая логика щедрости, сколь бы скуден ни был запас. Она описана отчасти Марселем Моссом в знаменитом «Эссе о даре» и Маршаллом Салинсом в работах по экономике общества каменного века, которые он называет «обществами изобилия». Следуя этой логике, первые наскальные отпечатки людей людям не принадлежали, но были следами их магической включенности в мир, были даром мира, который мы сегодня воспринимаем как магию, как силы желания имманентные щедрости самой жизни. Щедрость и радость – сестры, одинаковы их приметы.
Настоящий дар графомании в ее расточительности и причастности бесконечности (полноте мира) в каждом моменте письма. Это касание бесконечности не может быть передано через завершенную форму (произведения), но вполне уживается с формой исчезающей или ускользающей, истончающей любое содержание до минимального аффекта.
И здесь невозможно не вспомнить пристрастие Мартынова-композитора к минимализму. Оставляя в стороне музыковедческие описания этого направления, обратим внимание лишь на то, что в минимализме дан ключ к бытию-в-потоке: искусственный (почти ритуальный) бессмысленный повтор, позволяющий не вносить изменения, а подчиняться им.
Моторная функция руки (так и видишь при этих словах Владимира Ивановича за фортепиано) в этот момент осязает и сонорную, и визуальную сторону мира, извлекая звук из шума, а образ из хаоса изображений. И это уже не темы и вариации, а повторы и смещения. Не знаки, а отношения. Вместо звуков – резонансы, вместо смысла – парадоксы. И никаких перипетий и кульминаций. Они – дань мимесису, имитации жизни по канонам трагедии. Для Мартынова же в апокалипсисе нет трагедии, которую мы всегда готовы превратить в антиутопию или мелодраму, а есть то, что он скромно иногда называет «антропологическим сдвигом», таким изменением мира, которое не предполагает дальнейшее существование человека в прежнем виде как человека разумного или человека культуры. Не рай ли это, где шум и музыка неразличимы? Уж точно не катастрофа, возможно – повтор. Повтор того, что уже было когда-то, когда след стал изображением. Можно предположить, что этому сопутствовала радость, подобная радости повтора в детском лепете, или – участия в полноте мира. Именно так: товар, произведение и шедевр исходят из идеи нехватки, а повтор утверждает ненужность лишнего, данность данного. (Как тут не вспомнить мартыновский Requiem, настолько переполненный наивным мелодическим восторгом и акустической эйфорией многоголосного пения, что сама смерть становится нонсенсом).
Радость того, что коготь убитого зверя оставляет след на камне, а палец - отпечаток на глине, - шаг в становлении мира, где правит digitus Dei (перст божий), не указующий, а трогающий, передающий инстинкт касания. И сегодня Владимир Иванович Мартынов старается нащупать возможность провести линию, которая станет счастливым следом длящегося апокалипсиса, последним касанием в преддверии digital vita.



Мартынов Владимир
Владимир Иванович Мартынов — российский композитор, философ, художник, исследователь древней и современной музыки.
Родился в 1946 году в Москве.
Художник, композитор, философ, теоретик искусства. Окончил Московскую консерваторию по классу композиции и классу фортепиано (1970). С 1973 по 1980 год был участником Московской экспериментальной студии электронной музыки. Занимался изучением музыки Средних веков и Возрождения. Выступал на различных фестивалях, исполняя средневековую, авангардную, электронную и минималистскую музыку. В 1999 году совместно с Татьяной Гринденко создал инструментальный ансамбль Opus Posth. Осуществлял совместные проекты с Львом Рубинштейном, Дмитрием Приговым, Леонидом Фёдоровым (“АукцЫон”).
Преподавал в Московской духовной академии историю богослужебного пения, вел курс музыкальной антропологии на философском факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. Является автором многочисленных философских и музыковедческих текстов.
В работах Владимира Мартынова соединены философские, музыкальные и визуальные интуиции, которые художник развивает на протяжении многих лет. Мартынов работает в технике напоминающей бриколаж, осуществляя новые сборки из, на первый взгляд, не имеющих ничего общего, элементов прошлого и настоящего человеческой культуры. Разработав концепт автоархеологии и превратив его в творческий метод, художник создает онтограммы – артобъекты, лишенные человеческих иерархий и классификаций; чистые перечисления, проявленные из потока жизни. Радикальный жест художника состоит в отказе навязывать смысл вещам и собственным артобъектам, опознанный здесь как насилие над живой тканью реальностью.
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ:
- 2024 — “Онтограммы автоархеологии”, галерея a—s—t—r—a, Москва
- 2023 — “Автоархеология. Онтография. Тактильная сопричастность”, Балтийский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина, Калининград
- 2020 — “Территория бессмыслицы. Танцы Калиюги на Мясницкой”, галерея Нади Брыкиной, Москва
ИЗБРАННЫЕ КНИГИ:
- 2024 — Мартынов В. И. Апология Эпиметея. М.: ОГИ
- 2022 — Мартынов В. И. Где ты, Энкиду? Мир после ковид-революции. СПб.: Jaromir Hladik press
- 2013 — Мартынов В. И. Автоархеология на рубеже тысячелетий. М.: Издательский дом «Классика-XXI»
- 2012 — Мартынов В. И. Автоархеология. 1978—1998. М.: Издательский дом «Классика-XXI»
- 2011 — Мартынов В. И. Автоархеология. 1952—1972. М.: Издательский дом «Классика-XXI»
- 2010 — Мартынов В. И. Казус Vita nova. М.: Классика-XXI
“Автоархеологический метод как раз и стремится выявить взаимосвязи и взаимообусловленности. Основное положение автоархеологии гласит: «Я есть то, что я вижу, и я вижу то, что я есть» — или, другими словами: «Мое «я» обусловлено тем, что я вижу, а то, что я вижу, обусловливается моим «я»«. Это значит, что изменение того, что я вижу, изменяет мое «я», а изменения моего «я» изменяют то, что я вижу. Реальность раскрывается как бесконечно сложная динамическая система бесчисленного множества взаимосвязей и взаимообусловленностей, выявить которые практически невозможно с помощью традиционного однородного и линейного текста. Здесь нужен текст особого рода — текст, состоящий из двух или нескольких разнородных наборов текстов, находящихся друг с другом в свободных нелинейных отношениях. Если в «Автоархеологии. 1952-1972» задействовано два текстовых набора: подборка детских и юношеских стихотворений и комментарии к ним, то в «Автоархеологии. 1978-1998» главы «Трактата о богослужебном пении» перемешиваются с воспоминаниями о времени его написания и дополняются фрагментами инвентарных описей Саввино-Сторожевского монастыря XVII века. Мне кажется, только таким образом можно подобраться не к тому, что я хочу сказать, но к тому, что заставляет меня говорить то, что я говорю, и почему я говорю именно это. И именно в этом-то и заключается цель автоархеологии.”
Владимир Мартынов
Автоархеология. 1978—1998
Издательский дом «Классика-XXI», 2012